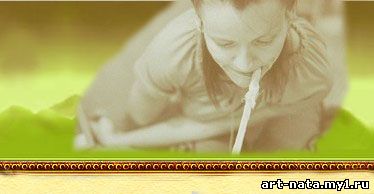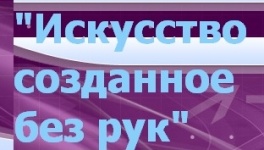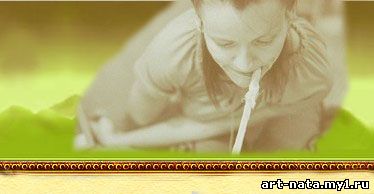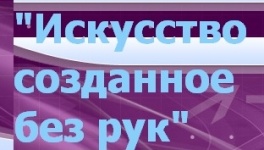|
Территория безмолвия
Инвалиды в России по-прежнему
чувствуют себя изгоями. И хотя методы лечения совершенствуются, а окружающая
среда становится более дружелюбной, ситуация меняется очень медленно. Разговор
с российскими врачами, участвовавшими в проходившей в Лондоне конференции по
современным технологиям реабилитации инвалидов, сразу обрел эмоциональную
окраску.
Замдиректора НИИ Неотложной
детской хирургии и травматологии Светлана Валиуллина решительно расставила
точки над «и»:
– Ситуация с инвалидами в
России такая, что кричать надо! Наши дети, которые получают тяжелые травмы –
спинальные или черепно-мозговые, становятся изолированными, настоящими изгоями.
Их семьи часто распадаются, отцы убегают, идет жуткое обнищание. У детей нет
легких технических средств, чтобы передвигаться. Не дай бог, если семья живет в
старом доме на пятом этаже – в этом случае ребенок не в состоянии даже проехать
на кухню, не говоря о том, чтобы спуститься вниз.
Недостаточно, я считаю,
делается и по профилактике травм. Летом к нам постоянно попадают «летуны» –
дети, которые выпадают из окон, восьмимесячные, трехлетние, разного возраста.
Таких случаев бывает от 20 до 30 каждый год. А скутеры? Часто результатом
катания на них ребенка становится смерть или тяжелейшая травма. Что происходит
в Англии? Там детям до 12 лет законодательно запрещено находиться одним. Окна
сконструированы таким образом, что створки не могут распахнуться настежь.
Скутер ребенок имеет право купить только в 16 лет, но только после получения
водительских прав.
Возможности социализации
детей с последствиями тяжелой нейротравмы в России ограничены. Конечно, сейчас
есть современные технические средства передвижения для инвалидов, которые
позволяют вернуть ребенку мобильность. Но они стоят денег. Государство,
особенно в регионах, выделяет ему, положим, коляску за 10000 рублей, в которой
он, скособочившись, сидит, усугубляя имеющиеся проблемы. В Лондоне постоянно
говорили о том, что технологии для инвалидов создаются с душой. Очень многие,
работающие в этой сфере, сами инвалиды и поэтому прекрасно понимают потребности
тех, кто будет пользоваться их колясками. Главное же, что такие технические
средства помогают не только передвигаться пациенту, но и снимать
психологические барьеры.
В Лондоне мы увидели, сколько
различных государственных программ существует в помощь инвалидам. Только один
пример. Пациенты, имеющие высокую травму позвоночника на уровне верхних шейных
позвонков, нередко страдают от проблем с дыханием. Раньше такие пациенты
умирали. Сейчас мы научились их реабилитировать, но они пожизненно должны
находиться на искусственной вентиляции легких в реанимации. Нам в институте в
этом году удалось одного такого ребенка реабилитировать и социализировать:
повысить уровень сознания, высадить в активную коляску и подобрать портативный дыхательный
аппарат, но что его ожидает дома – неизвестно. В Бирмингеме мы разговаривали с
главным травматологом, и она рассказала, что у них на округ с семью миллионами
жителей проживает 56 таких пациентов. Трое из них уже работают. Я спросила:
«Сколько они живут?» Она ответила: «Forever». А мы таких пациентов боимся
выписывать, потому что они могут погибнуть от дыхательных осложнений. Но от
следующей ее фразы мне и вовсе стало не по себе. Она сказала, что государство
берет на себя расходы по содержанию при таком больном пятерых ухаживающих. Это
дешевле, чем содержать такого пациента в стационаре.
Во время конференции мы
познакомились с англичанином, паралимпийским чемпионом, который получил очень
тяжелую спинальную травму в 16 лет, восемь лет оставался обездвиженным, а
сейчас выступает за сборную Великобритании. У него в коллекции 26 медалей, и он
выступал едва ли не на всех Паралимпиадах. Он сам усовершенствовал свои
коляски, а сейчас внес изменения в кресло автомобиля, которым управляет, что
позволило ему участвовать в ралли! Он подчеркнул, что готов в любой момент
приехать в Москву, если такая поездка принесет детям помощь. Мы, кстати,
подумали о том, что организация встреч с нашими паралимпийцами также могла бы
дать ребятам необходимую мотивацию.
Дважды в год – в Москву
– Такие встречи проходят? –
задаю вопрос Александру Чемерису, заместителю главного врача Федерального бюро
медико-социальной экспертизы. Тот отрицательно качает головой.
– Я об этом не слышал, –
отвечает Чемерис. – Хотя и работаю в учреждении, которое обеспечивает
медицинское обслуживание участников паралимпийской сборной России. Раньше
такого единого центра не было. Вообще, в Лондоне из разговоров с доктором
Скоттом, который является председателем комиссии по инновациям правительства Великобритании,
мы поняли, что у нас в России дела обстоят очень хорошо. В 2009 году вышел
обновленный приказ Минздравсоцразвития, в котором прописано, что все спортсмены
сборных высших достижений – и олимпийцы, и паралимпийцы – должны проходить
углубленные медицинские обследования два раза в год. У англичан это
добровольная процедура, которую может инициировать или тренер, или сам
спортсмен.
Для чего это нужно? Для того
чтобы определить состояние здоровья спортсмена, выяснить, можно ли его
допускать к соревнованиям или тренировкам, дать рекомендации для улучшения
спортивных результатов. Поскольку в нашем центре стоит аппаратура экспертного
класса, то благодаря ей, например, удалось выявить у спортсменов довольно много
сердечных заболеваний, которые не позволяют заниматься спортом. Мы работаем с
паралимпийцами два года и хорошо уже их знаем. Надо понимать, что
спортсмены-инвалиды не всегда нездоровые люди. Допустим, молодой парень в
состоянии алкогольного опьянения попал в аварию и лишился руки. При этом он в остальном
абсолютно здоров, хотя и считается инвалидом.
Другое дело ребята,
страдающие ДЦП и с последствиями травм, которые, как правило, с детства
прикованы к инвалидному креслу. У них бывают различные другие заболевания,
которые мы обычно выявляем. При этом уровень помощи, который мы оказываем
паралимпийцам, намного выше, чем они могут получать у себя на местах. Ведь есть
спортсмены, которые живут в маленьких городах и деревнях. Предвижу вопрос: кто выделяет деньги?
Паралимпийский комитет России финансирует их регулярные поездки в Москву на
обследования. Бывает так, что мы даем определенные рекомендации, а они их по
месту жительства просто не могут выполнить. Например, у подавляющего
большинства спортсменов-колясочников есть нарушения функций тазовых органов,
что в свою очередь ведет к частым воспалениям. Для того чтобы это пролечить,
нужно пройти курс антибиотиков и обязательно выяснить чувствительность
организма к этим лекарствам. Так вот, сделать это в провинции часто невозможно,
потому что там посевы не делаются вообще.
Наращиваем мышцы
Без специальных технологий
инвалидам не прожить. Но в России с ними проблема: собственных разработок мало,
а импортные слишком дороги. Чемерис считает, что не стоит изобретать велосипед:
– Мы уже привыкли к тому, что
в России не умеют производить качественные автомобили. Полагаю, что вполне
возможно наладить производство качественных протезов, используя западные
комплектующие у нас. И с простыми колясками могли бы управиться. Но активными управляемыми
комплексами (стоимостью свыше 70 тысяч евро), позволяющими инвалидам без усилий
и боли передвигаться, нам пока не по силам обеспечить всех нуждающихся. В
Лондоне мы посетили четыре клиники, и у меня возникло такое ощущение, что там
главная задача – пересадить человека в
хорошую коляску. Поскольку у нас таких доступных (автоматически управляемых)
для всех колясок нет, то мы стараемся
поставить пациента на ноги. Удается это не всегда. Сложность в том, что
пациенты-спинальники долгое время после травмы находятся в коме. За это время
происходит атрофия мышц, и очень сложно потом их восстанавливать. Но у нас есть
методика наращивания мышц, которую мы довольно успешно применяем. У нас
проходил лечение 16-летний парень, который получил перелом шейных позвонков во
время занятий спортом. Он 96 дней был на искусственной вентиляции легких, но мы
его поставили на ноги. В соседней палате лежит 14-летняя девушка с подобной
травмой, которую она получила в аквапарке. Процесс восстановления у нее
проходит медленнее, однако нам удалось все-таки ее вертикализировать.
Восстанавливать как можно
раньше
Реабилитация – едва ли не
важнейшая составляющая лечения тяжелых травм. Валиуллина считает, что у нас она
заметно отстает:
– Реабилитация в России
только сейчас начинает активно развиваться. У нас испокон веков господствовала
пассивная двигательная составляющая – физиотерапия, массаж, рефлексотерапия. В
развитом мире упор изначально делался на активную реабилитацию, когда пациента
самого мотивируют на восстановление. Понятно, что мы не вернем того человека,
который был до получения тяжелой нейротравмы, но в пределах природных
возможностей стараемся помочь ему восстановить утраченные функции.
Но у нас реабилитация
начинается, как правило, уже после того, как ребенка выписали из больницы и он
получил инвалидность. А необходимо начинать ее на раннем этапе, еще в
реанимационной палате. Тогда мы гораздо больше сумеем сделать.
В реабилитации особую роль
должны играть психологи, которые у нас включаются в процесс, как только пациент
перестает умирать. С одной стороны, они работают с родителями, которых нужно
подготовить к принятию ребенка в совершенно новом качестве и научить любить не
того, каким он был до травмы, а нынешнего. И, конечно, с самим пациентом.
Многие из них находятся в вегетативном состоянии, но могут слышать слова и
все-таки получать какую-то информацию.
– Сейчас в каждой сборной по
видам спорта работают психологи, – развивает тему Чемерис. – Спортсменам ведь
тоже нужна психологическая помощь, поскольку они постоянно переживают
стрессовые состояния. К примеру, существует жесткая конкуренция за место в
сборной, за путевку на соревнования. Некоторые испытывают сложности с
мотивацией – добившись успеха, они не видят, что им делать дальше, и здесь тоже
могут помочь психологи.
Информация как выход
Есть ли какие-то сдвиги в
положении инвалидов в России? Александр Чемерис считает, что есть:
– Меня в последнее время
атакуют тренеры из разных сборных команд – не национальной, а местных. Они
приходят и спрашивают: «А можно мы у вас в отделении проведем беседу с
ребятами? Разрешите повесить объявление о том, что наш клуб или спортивная
школа приглашают на занятия детей-инвалидов». Именно тренеры ведут колоссальную
работу: они ходят по больницам, по детским интернатам, отбирая детей, способных
заниматься спортом.
Что-то все же постепенно
делается: появляются пандусы для колясочников, проектируются дома с удобствами
для инвалидов, переходы снабжаются пассивными средствами безопасности,
открываются спортивные школы. У нас в стране 13 миллионов инвалидов, и это
очень большое количество людей, которые требуют внимания и приспособленной
среды.
Светлана Валиуллина настроена
более пессимистически:
– Инвалиды очень страдают от
нехватки информации. Телевидение и СМИ не обращают на них никакого внимания. В
школу они, как правило, не ходят, количество друзей сразу резко уменьшается,
хорошо, если ребенок достаточно продвинутый и может пользоваться интернетом.
Доступной для них информации практически нет. Я приехала из Лондона с твердой
уверенностью в том, что нам нужно делать специальные сайты и форумы для общения
таких детей и их родителей. В них могли бы участвовать и паралимпийцы, и
производители технических средств, и врачи, и психологи. Тогда дети не будут
уезжать из отделения домой со страхом – что с нами будет дальше?
Медицина все-таки не стоит на
месте. Мы научились выхаживать тех пациентов, которые еще совсем недавно
погибали. Но государство оказалось не готово их принять.
Справка:
Валиуллина Светлана
Альбертовна. Доктор медицинских наук, профессор. Заместитель директора
Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии
Департамента здравоохранения города Москвы.
Чемерис Александр Николаевич.
Кандидат медицинских наук. Заместитель главного врача Федерального бюро
медико-социальной экспертизы Федерального медико-биологического агентства
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Александр Кобеляцкий
Источник:
rusrep.ru
Источник: http://www.dislife.ru/flow/theme/21598/#more |