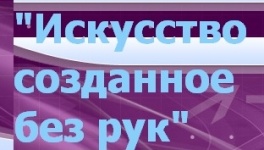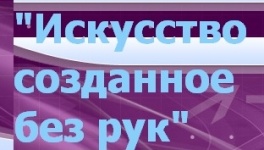|
Во времена
национал-социализма в Германии было истреблено 200 тысяч человек, страдавших
расстройствами психики, и инвалидов. Термин «эвтаназия» (в переводе с
древнегреческого — «прекрасная смерть») цинично использовался в качестве
названия для программы по уничтожению людей. Жуткое прошлое наложило свой
отпечаток на отношение к неизлечимо больным и инвалидам в Федеративной
Республике: положения о содействии желающим свести счеты с жизнью носят
рестриктивный характер, к преимплантационной диагностике применяются более
строгие нормы, чем в большинстве других стран ЕС.
В
2006 году ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, ратифицированную в 2009
году Германией. Документ предусматривает создание системы инклюзивного обучения
для всех школьников. Дети с инвалидностью и отклонениями в поведении должны
будут посещать обычные школы.
Сегодня ведутся споры о плюсах и минусах данной концепции. Ее сторонники
говорят, что инаковость должна быть вариантом нормы. Противники убеждены, что
инклюзия станет внедряться за счет специализированных школ, что учителя не
смогут справляться с дополнительными задачами, хорошо успевающие дети не
получат должного развития, а школьники с инвалидностью будут чувствовать себя в
обычных классах изгоями.
В ходе данной дискуссии оппоненты навешивают друг на друга ярлыки идеалистов и
утопистов, но в конечном счете все упирается в нравственные нормы
сосуществования.
Берлинский специалист по современной истории Гетц Али (65 лет) — отец
дочери-инвалида, 34-летней Карлины. В беседе со «Шпигелем» он делится радостями
и тяготами воспитания такого ребенка. 32 года Али занимался проблемой эвтаназии
в истории, недавно в Германии вышла его книга «Обремененные».
- Господин Али, вы исследовали такое явление, как эвтаназия, во времена
национал-социализма: умерщвление инвалидов и людей, страдавших психическими
заболеваниями. При этом у вас дочь-инвалид. Наверное, было тяжело?
- Разумеется, я понимаю, что моя дочь тогда оказалась бы в числе кандидатов на
эвтаназию. Но именно болезнь Карлины подтолкнула меня к тому, чтобы заняться
этой темой. Возможно, это даже было формой психологической самопомощи. Так я
стал исследовать данную проблематику в контексте нацизма. Меня не смущает,
когда те или иные темы моих исследований затрагивают меня. Наоборот, я считаю
неправильным, что многие немцы, рассуждая о временах национал-социализма,
делают вид, будто с тем периодом их лично вообще ничего не связывает. Порой я
подкалываю старших коллег вопросом: «А что делал ваш отец в годы Второй
мировой?»
- Ваша книга об эвтаназии вышла с посвящением Карлине, вы даже
написали о ней пару абзацев. Однако в рецензиях и интервью с вами ваша дочь
практически не упоминается. Что это — робость?
- Научный труд обсуждают, руководствуясь соответствующими критериями. Немецкие
историки тяготеют к так называемой объективности. Они считают, что могут
исключить все субъективное и потому мешающее восприятию. Но есть один профессор
истории, немец Ханс Момсен, который регулярно интересуется, как дела у Карлины.
Этим он отличается от остальных.
- Как сказывается такой страх перед личным на немецкой науке?
- Я нахожусь на периферии академического «хоровода», в силу чего возникает
напряженность, из которой я черпаю энергию, идеи и вопросы. Научные круги во
многом зациклены на себе: в больших количествах рождаются «стерильные» тексты,
на которые зачастую выделяются колоссальные бюджетные средства и которые являют
собой поучительный пример того, как отпугивать читателей и закрывать глаза на
исторические знания. Исследования национал-социализма — это по большей части
искусство научного самодистанцирования и заклинательства. Ученые делают вид,
будто немцы при национал-социализме были чудовищами, совершенно не похожими на
нас сегодняшних.
- В чем сходство?
- Подзаголовок моей новой книги —«История общества». Я не только занимаюсь
деяниями пяти сотен убийц и судьбами 200 тысяч жертв эвтаназии, но и пытаюсь
пролить свет на общий контекст: какую позицию занимали родственники и соседи? И
здесь сталкиваешься с реакцией, типичной для всего человечества: хронически
больные и инвалиды могут быть обузой для домашних. И такой опыт есть у каждого.
- Отсюда название вашей книги — «Обремененные». Вы доказываете, что
массовые убийства были бы невозможными без молчаливого согласия родственников.
- Я говорю не о согласии. Организаторы умерщвления под знаменами эвтаназии
проводили систематические опросы, как часто и кто навещал того или иного
пациента. Если они видели, что семейные узы не слишком прочны, вероятность
направления несчастного на эвтаназию многократно увеличивалась. Потом
родственники получали официальный документ с вымышленной причиной смерти.
Большинство устраивало, что государство дает им возможность не знать правду. На
той же общественной почве — как бы в полутьме, когда все отводят взгляд, — стал
возможным и холокост. Убийцы, которые начали в 1939 году с эвтаназии, были
удивлены тем, насколько ничтожное сопротивление они встретили. Это было связано
со стыдом, который испытывали многие родственники.
- И который сохраняется до сих пор.
- Каждый восьмой современный немец состоит в кровном родстве с кем-то из жертв
тех убийств. А с учетом супружеских уз такую связь можно проследить чуть ли не
в каждой семье. Но в большинстве семей об этом было не принято говорить.
Мертвые преданы забвению.
- При желании можно обратиться к архивам.
- Те организации, в которых хранятся личные дела жертв эвтаназии, как правило,
не публикуют имен, хотя законодательство о защите личной информации этому не
препятствует. Я спрашивал президента Федерального архива и федерального
уполномоченного по защите личной информации, почему. Оба они ответили:
«Все-таки нужно пощадить родственников, которые еще живы». В случае с евреями
мы ни при каких обстоятельствах не стали бы скрывать имен, но в отношении так
называемых сумасшедших почему-то вдруг начинаются разговоры о защите ныне
живущих родственников. Но для чего их защищать? И от чего?
- Дело, возможно, в страхе немцев узнать о родственниках с плохой
генетикой.
- Да. Когда двадцать лет назад был открыт первый мемориальный комплекс и на его
адрес стали приходить первые письма, то чаще всего их отправители спрашивали:
значит, у нас в семье наследственное заболевание?
- В своей книге вы приводите высказывание отца, который во времена
национал-социализма рассчитывал, что руководство специализированного
медучреждения избавит его от ответственности за ребенка. Такая исключительная
бесчувственность сегодня вызывает оторопь.
- В столь крайнем проявлении — да, но не восприятие обузы как таковое. Мой отец
долгие годы страдал старческим слабоумием и в конечном итоге попал в дом
престарелых. Мы понимали, что это не лучшее решение, но по-другому не
получалось. Другой пример: 35 лет назад я снимал жилье вместе с друзьями. Один
из них оказался в психиатрической клинике. Я до сих пор общаюсь с друзьями, но
мы не говорим о нашем товарище, мы даже не знаем, жив он еще или нет. С
душевнобольными непросто. Когда у ребенка появляются серьезные проблемы с
психикой, часто это может обернуться поиском виновных.
- С одной стороны, матери идут на аборт, когда узнают, что у них
может родиться ребенок-инвалид. С другой — мы видим серьезные усилия по
интеграции детей с инвалидностью, соответствующие требования предъявляются к
школам. То есть современное общество сильно отличается от того, что было тогда.
- Это так. Наша Карлина и мы, ее родители, получили очень большую поддержку от
государства, к нам очень доброжелательно относились и окружающие, и
специалисты, с которыми приходилось иметь дело. Часто люди говорят, что в
Германии данной проблемой недостаточно занимаются. Это не так. Я, со своей
стороны, могу только выразить благодарность. В этом отношении мы живем в
счастливой стране. Я, как отец ребенка-инвалида, знаю, насколько важна
поддержка для душевного равновесия. При национал-социализме родственники
испытывали давление со стороны официальной пропаганды, считались генетически
ущербными, большинство из них жили в материально стесненных условиях, к тому же
шла война. И я понимаю, что некоторые в таких обстоятельствах не выдерживали.
- Ваша дочь Карлина родилась здоровой и заболела через несколько
дней после рождения. Как это произошло?
- На третий день жизни она была заражена стрептококковой инфекцией, после чего
отказалась пить. В организме 30% беременных женщин присутствуют стрептококки
группы В; если их своевременно выявить и дать антибиотики, то все будет в
порядке. В 1970-х годах соответствующие анализы, как правило, не делались. К
тому же тогда популярными стали мягкие роды, Карлина появилась на свет в
частной клинике. С педиатром консультировались по телефону, он недооценил
серьезность ситуации, поставил диагноз: транзиторная лихорадка. Карлина угасала
с каждым часом, утром она еще выглядела совершенно здоровой, а к вечеру ее кожа
стала серой и сморщенной. Ее слишком поздно перевели в детскую больницу.
- Врачебная ошибка?
- Да, но выбор в пользу мягких родов сделали мы, родители. И нужно понимать,
что подобное всегда так или иначе будет происходить. Увечья — это часть нашей
жизни, меняются только их формы. И хотя такие случаи, как у Карлины, сегодня
встречаются реже, а 90% матерей при подозрении на синдром Дауна делают аборт,
сегодня, в частности, чаще приходится иметь дело с последствиями в результате
преждевременных родов. И все больше пожилых людей страдают тяжелыми формами
психических расстройств.
- Какой была реакция врачей на болезнь Карлины?
- Заведующий отделением интенсивной терапии в университетской клинике на третий
день отвел меня в сторону и сказал: «Если ваша дочь переживет эту ночь, она
останется тяжелым инвалидом». Я это воспринял как закодированный вопрос и до
сих пор помню тот разговор, словно это было вчера.
- Вопрос о том, нужно ли бороться за жизнь Карлины? И что вы
ответили?
- Попросил сделать все возможное, чтобы она выжила.
- Еще до того, как Карлина появилась на свет, было решено, что она
будет жить с матерью — Морлинд Тумлер, у которой уже был ребенок. Вы тоже
воспитывали троих детей. Как изменилась ваша жизнь с рождением Карлины?
- Хочу подчеркнуть, что большую часть нагрузки взяла на себя мать Карлины. Она
на год ушла с работы, но потом вернулась на место учителя — ее школу тогда как
раз преобразовали в школу интегративного типа. Ну а для меня Карлина послужила
стимулом для научных трудов.
- Когда вы говорите о Карлине, то производите впечатление
счастливого человека. И тем не менее воспитывать ребенка-инвалида — это тяжело.
- Карлина не говорит, ей нужна коляска, она не может контролировать свои
движения, спине нужна опора, временами случаются эпилептические припадки.
- Ее приходится кормить, менять подгузники и иногда носить на руках?
- Да, но у нее хрупкое телосложение, она весит всего 20 кг, и это облегчает
задачу. Я не думаю, что ухаживать за ребенком с тяжелой инвалидностью труднее,
чем за ребенком с менее серьезными ограничениями. Мне даже кажется, что
родителям детей с инвалидностью средней тяжести намного сложнее подстроиться.
Они годами прилагают большие усилия, организуют десятки курсов лечения, прежде
чем смириться с тем, что их ребенок такой, какой есть.
- В случае с Карлиной с самого начала было понятно, что на серьезное
улучшение рассчитывать не приходится?
- Это стало ясно примерно через год. И потому нам было легче сказать: что ж,
постараемся максимально облегчить ей жизнь. Нередко родители детей-инвалидов
ведут себя по отношению к ребенку агрессивно и даже желают ему смерти; все это
— следствие перенапряжения, чувства покинутости, отчаяния. Такие противоречивые
чувства приводят к серьезным мукам совести, поскольку направлены против
близкого и к тому же совершенно беззащитного человечка. Национал-социалистическая
пропаганда здорового образа жизни и физкультуры дополнительно усиливала эти
вполне понятные противоречия, и здесь включалась политика истребления.
- Родители хотят видеть в детях свое отражение, и так возникает
привязанность. Если ребенок одарен, родители тешат себя мыслью, что это их
заслуга. Должно быть, разглядеть себя в ребенке-инвалиде труднее. Что вы
испытываете?
- Знаете, с этим особых проблем нет. Карлина по природе очень мягкая и
уравновешенная, и она это определенно унаследовала от матери. У нее миловидная
внешность. Она может смеяться и плакать, любит музыку, хорошую еду и общество
людей. Иногда может выпить немного пива. Порой у нее лукавый взгляд. Тогда мы
говорим: она кажется очень умной.
- Ваша дочь посещала частный детский сад, потом спецшколу, сегодня живет
в специализированном общежитии с уходом. Как вы относитесь к современным
веяниям, согласно которым все школы должны обеспечивать инклюзивное обучение,
то есть принимать как здоровых, так и детей с особыми потребностями? Скептики
считают, что дети с инвалидностью в обычных школах будут острее чувствовать
свои отличия и сильнее страдать от этого.
- Есть дети, которые осознают свое особое положение, и им это нравится. Но
многие понимают, что в чем-то не могут состязаться с другими, и рады, что могут
ходить в спецшколу. Это зависит от особенностей личности. Поэтому возможность
выбора должна сохраняться.
- Призывы к инклюзивному обучению раздаются, скорее, из левого
спектра общества. Вы сами были участником левого движения, но потом дистанцировались
от некоторых его идей. В своей книге вы пишете, что идеология, которая привела
к политике эвтаназии, вдохновлялась реформаторским движением, то есть, по сути,
левым лагерем. Как вы пришли к такому выводу?
- Со стороны левых и антиклерикальных кругов не было никаких протестов против
убийств под знаменами эвтаназии. Представления о здоровом обществе, о людях,
способных участвовать в производстве и наслаждаться жизнью, сформировались в
буржуазно-либеральной, левой и нерелигиозной среде. Идея эвтаназии родилась не
в праворадикальных и не в консервативных кругах. Она была и остается частью
современности и прогрессивного мышления, но нигде в мире не получила столь
радикального воплощения, как при национал-социализме. В некоторых европейских
странах, страстно желающих идти в ногу со временем, содействие желающим уйти из
жизни стало чем-то совершенно само собой разумеющимся.
- О каких странах вы говорите?
- Недавно я встречался с одной коллегой из Нидерландов. Она рассказала, что
только что созванивалась с братом и сестрой, чтобы договориться о дне, в
который их мать, больная раком, должна будет умереть. Сын королевы Нидерландов,
находящийся в коме, отдан на попечение врачей Великобритании, потому что в его
стране практически не осталось медицинских заведений, осуществляющих уход за
такими пациентами.
- Нидерланды стали первой страной в мире, легализовавшей активную
эвтаназию.
- С точки зрения истории это логично. Нидерландцы первыми создали в Европе
современное буржуазное государство. Они уже давно сделали выбор в пользу
самоопределения в вопросах жизни и смерти, в пользу счастья и благополучия
здесь и сейчас.
- Протест против уничтожения так называемых недостойных жизни
исходил со стороны церкви — от графа Клеменса Августа фон Галена, который с
1933-го по 1946-й был епископом Мюнстера. Гален был человеком очень
консервативных взглядов.
- Граф фон Гален в той же проповеди, в которой называл тяжелым преступлением
эвтаназию, говорил о недопустимости секса до брака. Современным немцам мотивы
его протеста чужды, и тем не менее он не побоялся в одиночку заявить о своей
позиции, что заслуживает большого уважения.
- Большинство людей хотят самостоятельно определять, как им жить, и
считают аборты, равно как и эвтаназию, допустимыми при определенных условиях. В
то же время мы знаем, что нацистский идеал совершенного человека порождает
нелюдей. Влияние церкви слабеет, нравственных ориентиров не остается. Нам нужна
новая этика?
- Да, нам необходимо заново сформулировать нравственные нормы. Люди должны
определить границы для своих поступков и желаний. В Библии есть прекрасный,
очень радикальный тезис: каждый человек — это образ Божий вне зависимости от
того, насколько он болен, беден или ограничен в своих возможностях. Нужно
постараться перенести этот принцип в наше видение себя в рамках светского
правового государства.
- Господин Али, мы благодарим вас за эту беседу.
Сузанне Байер
Источник: www.profile.ru
Источник: http://www.dislife.ru/flow/theme/24277/#more |