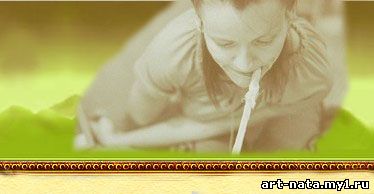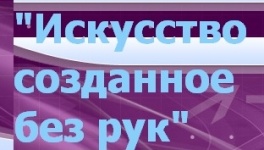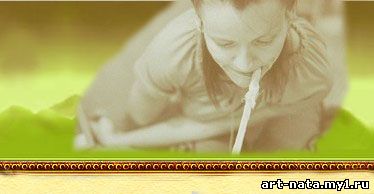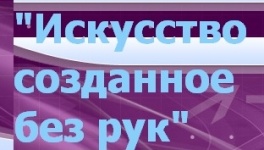|
Никита Трофимович — Разрешить
себе быть обыкновенным  «А давайте, Никита, поговорим о
борьбе и о победе!» «А давайте, Никита, поговорим о
борьбе и о победе!»
Сегодня мне
стыдно за это бравурное вступление к разговору, но тогда я всё ещё думала, что люди
с ограниченными возможностями, если уж создают вокруг себя счастливую
реальность, то исключительно благодаря борьбе и победе.
Честно
говоря, до встречи с Никитой Трофимовичем у меня вообще было полно стереотипов
и комплексов по поводу инвалидов в колясках. Мне обязательно было их
жалко, у меня они обязательно вызывали какое-то странное, несколько
снисходительное восхищение, и вообще я мало чем отличалась от тех, кто считает
людей с ограниченными возможностями какими-то не такими. Разве что со знаком «плюс»
— но разве важны знаки?
Мы
познакомились на литературном мероприятии: Никита читал свои стихи. Мощные,
сильные, по-настоящему мужские стихи — невысокий парнишка в инвалидном кресле.
Потом его
критиковали — он внимательно слушал, кивал головой. Потом оказалось, что Никита
— не только поэт: он маркетинговый консультант, копирайтер, в прошлом занимался
социолингвистикой. Встретились мы у Никиты дома — он галантно пригласил
меня на чай с плюшками, а я от плюшек не отказываюсь никогда. За чаем и плюшками
мы познакомились с замечательной семьей: мама Тамара Григорьевна, профессор,
доктор филологических наук, папа Валентин Анатольевич, водитель-международник,
старший брат Степан — предприниматель в сфере строительства, и наконец,
двойняшки Никита и Фёдор. Обычная семья, в которой словно и нет никаких
особенных проблем.
И мы начали
— с борьбы и победы.
О борьбе и
победе.
Никакой
борьбы и победы не было по одной простой причине — никто не знал, как и с чем
воевать. Никто не знал никаких правил или условий войны. Все происходило путем
проб и ошибок. Поручни в общем коридоре, шведскую стенку — все это отец
придумывал заново, потому что никто никому ничего не рассказывал. Ну, и я,
понятное дело, ничего не знал — у меня ведь не было опыта жизни без болезни. Не
было ни борьбы, ни победы, была просто жизнь.
Первыми
начали жить с моей болезнью мои родители. И это с них началось. Меня и моих
братьев — старшего, Степана, и моего двойняшку, Фёдора, который старше меня на
две минуты — учили всегда: Никита — может быть, и странный, но — такой же, как
все, и, кроме нас, у нас никого нет.
Отказаться
от кого-нибудь из нас и послать все подальше мы не можем. И когда я потом
в детстве слышал от врачей, что в семи из десяти историй такой болезни, как
моя, не вписан отец — это ведь не вопрос самой болезни, или медицины, или
героизма и борьбы, это просто выбор каждого человека. Кто-то уходит, а кто-то
остается. Мой папа остался со мной. Это сильно мне облегчило жизнь.
Один раз
меня возили в интернат — посмотреть. Была мысль: а вдруг там будет лучший уход?
Но почему-то меня там не оставили. Я не знаю, почему. И я думаю, они и сами не
знают рационального объяснения этому. Просто не оставили — и все.
Я попал в те
десять процентов больных, у которых по счастливой случайности остался незатронутым
мозг. Это — вопрос случая. Меня ломали, но плохо. Где здесь моя борьба? Это
просто случай.
Счастливый
по отношению ко мне.
Мне вот этой
мыслью нравится Варлам Шаламов, из всех лагерников он мне нравится больше всех.
Если у тебя что-то получилось, значит, тебя просто плохо ломали. Никакой ты не
герой, потому что если бы ломали хорошо — то сломали бы.
Мне не
хочется вписывать себя в координаты. Я и так кажусь маргиналом из-за своей
болезни, а тут еще — герой, жертва… Герой, жертва — это ненормальные люди.
Герой — ненормален с плюсом.
Жертва —
ненормальна с минусом. А я не хочу быть в тех координатах, где я мало того, что
болен, так еще и наверх ненормален, потому что числюсь героем или жертвой.

Никита
Трофимович - Разрешить себе быть обыкновенным
Об отношении
к людям с ограниченными возможностями.
В жизни,
кстати, я пока не встречал злонамеренной, умышленной дискриминации инвалидов. В
основном — из-за незнания, из-за невежества или — из-за первичной реакции
сочувствия, желания помочь. Мне сегодня важно, что в отношении к людям с
ограниченными возможностями был определен такой тонкий, но критичный момент,
как допустимый предел помощи. Когда его чувствуют, тогда инвалиду не говорят:
мы все будем делать все за тебя. Его учат: убирать дом, обращаться с деньгами,
устраиваться на работу, четче выговаривать звуки, общаться на приемлемом
социальном уровне. Там, где ты не можешь — рассчитывай на помощь. Но там, где
ты можешь — делай сам. Это ведь нормально работает в случае с обычными людьми:
мы помогаем людям низкого роста достать товар с верхней полки, например. Но не
будем же мы бросаться помогать ему снять пачку сока с нижней полки. Не жалость,
только не жалость — нам нужно всего лишь нормальное взаимодействие с учетом
каких-то наших физических или психических особенностей.
Мне вообще
хочется, чтобы мы в своих оценках отказались от личностей и обращали внимание
на процессы и тенденции. Вот как писатели: они же рождаются не сами по себе, а
из обсуждений, из того, что мы кого-то второстепенного обсуждаем, критикуем,
хвалим, из того, что происходят события, реализуются возможности.
Важны не
столько люди, сколько события в жизни этих людей. С инвалидами — так же: ведь
для нас есть в стране и фестивали театров, есть конференции, тренинги,
семинары, есть центры реабилитации, есть программы и это все можно и нужно
развивать — вот что главное, а не то, что кто-то является социально активным, а
кто-то — нет.
Что мне
нравится в Европе: там никто не пялится, никто не предлагает денег… Когда ко
мне в магазине подошла продавщица, она не спросила, потерялся ли я и хватит ли
у меня денег, она сказала: если вы отвернете вот эту штучку, вы сможете
померить то, что выберете.
Важнее, чем
признавать факт одного ленивого, одного героя, одной жертвы — важнее создать
систему, скажем, выстроить правила отношения общества к инвалидам.
Какие это
должны быть правила? Очень простые. Такие же, как и в отношении общества к
любому человеку.
Во-первых,
пусть во мне видят просто человека. Спрашивают, например, что-то не у
сопровождающего, а у меня. Допускают, что я живу в тех же координатах. Считают
меня равным. Требуют от меня навыков и соблюдения принятых правил, покажите — и
я научусь.
Понимают,
что мне тоже нравятся красивые девушки и вкусное пиво. Я ничем не отличаюсь в
своих основных пристрастиях, желаниях, стремлениях от здоровых людей. Знаете,
какое достижение считает для себя самым важным координатор польской программы
по работе с людьми с синдромом Дауна? То, что он стал водить их на футбол. Сделал
для них доступной обычную человеческую радость. Как-то раз мне понадобилось
что-то оплатить — и наша белорусская женщина, очень добрая, очень хорошая,
жалостливая женщина сказала: ой, ребята, не надо ничего платить, я посмотрела
на парня — и так расстроилась! А в Европе единственный случай, когда на меня
посмотрели и расстроились, был с малышом одним: он посмотрел на мою коляску,
потом на свой велик, и понял, что у меня круче. И расстроился. Вот что такое —
как к обычным людям.
Еще,
например, безбарьерная среда для инвалидов. Когда в инвалидах станут видеть
обычных людей — окажется, что необходимо создавать безбарьерную среду не
потому, что она нужна инвалидам, а потому, что она нужна всем. Чем помешают
пандусы и дополнительные поручни мамам с колясками, старушкам, тем, у кого
какая-то временная травма? Посмотрите на трудности инвалидов, экстраполируйте
их на проблемы обычного человека — и окажется, то, что неудобно для человек с
недугом, неудобно для всех. Просто у нас принято, что простой человек уж как-нибудь
перетерпит. Так вот — зачем, чтобы он терпел?
Или вопрос с
работой. Мне повезло — я сегодня уже могу устраиваться на работу, искать
приработок по рекомендациям. А некоторые люди с инвалидностью пытаются
устроиться годами, из-за недоступности образования, того что им в своё время
никто не помог задуматься поверить в себя и научиться доказывать, что «инвалид»
не равен «безумцу». Справляться самому — почетно, но силы на это не всегда
есть, я благодарен всем, кто поддерживал меня и поддерживает по сию пору.
Почему
копирайтером не может быть инвалид? Может. Но нам говорят: нет, вы не сможете
ездить в офис, и поэтому не сможете проникаться командным духом. Как будто все,
кто сидит в офисе, переполнены командным духом. Когда же к нам относятся как к
обычным людям, нас собеседуют на компетенции и способности, а не на возможности
ездить в офис.
Во-вторых,
людьми (в скобках скажем — инвалидами, но это не только про инвалидов) надо
интересоваться. Мы ленимся, не находим времени сейчас разговаривать. Нам
кажется, что все должны все соображать, обо всем догадываться, все улавливать
из контекста. Мы ленимся выяснять. Мы все хотим не выяснять, а донести. Мы
слушаем других не для того, чтобы понять, а для того, чтобы ответить на
реплику. Нам не интересны другие, зато мы крайне интересны сами себе. «Мы
остались в живых. Стала легче дорога. Мы черствеем, как хлеб, которого много».
Знаете эти строки? Так вот если просто выслушать человека с недугом, просто
спросить у него все, что тебе кажется непонятным, отношения с ним станут
максимально простым.
Один
волонтер мне рассказывал, что в первый год работы в летнем интеграционном
лагере для здоровых и людей с недугом, он каждый день к вечеру просто падал от
усталости, потому что, каждый раз, когда что-то с кем-то из колясочников
случалось, он мчался помогать. И только потом он понял: каждый раз — не надо.
Я, например, уже научился: если я вдруг где-то падаю в наших непростых
условиях, надо сразу выставить вперед руку, мол, не надо, я встану сам, это мне
и проще, и полезнее. Мне важно справиться самому. Не нужно бежать на помощь.
Мои правила
— это правила не для инвалидов, они — для всех. Ни я, и ни любой человек
с инвалидностью — никакой не герой, никакой не особенный. Просто в связи со
своей ситуацией какие-то общечеловеческие мелочи от нас требуют большего
внимания. И всё. А относиться внимательно хорошо было бы ко всем.
Между прочим, в моем положении есть и плюсы. Я, например, в очереди на почте не
стою. Тоже большое дело....
Источник: http://nnd.name/2014/03/nikita-trofimovich-razreshit-sebe-byit-obyiknovennyim/ |