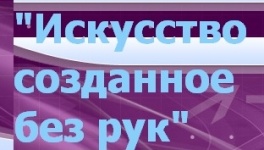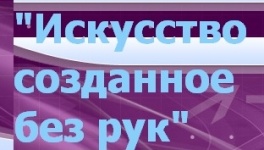...
И не нужно думать, что ты сейчас найдешь какое-то волшебное слово, которое тут же спасет, и все будут счастливы. Просто побыть и послушать. Здесь нет правильных слов, надо просто не бояться быть рядом.
Виды «альпинистских крюков»: иметь право жаловаться, сохранить работу и заняться рисованием
У нас не принято об этом говорить, но на самом деле лечение противное и неприятное. И тогда либо ты бодришься и делаешь вид, что ты огурцом, но тогда твоя боль остается с тобой и преследует тебя долго.
Вторая история – когда человек начал считать себя инвалидом до того, как на самом деле им стал: лег на диван и сказал: «Все, я – самый несчастный».
И для меня было важно то, что я смогла все время активного лечения сохранять работу и еще сумела заняться рисованием.
То есть, наконец разрешила себе те увлечения, которые долго откладывала по нашей привычке «сначала суп, потом – сладкое, сначала диссертация, потом – рисование». А тут, когда перспектива исчезла, ты начинаешь разрешать себе вещи, которые раньше ты «не заслужил». А тут уже и заслуживать не надо. То есть отсутствие перспективы создает ширину горизонта.
Помню, что было между химиями. Там после первой совсем выворачивает, а после второй – уже вроде ничего, только очень кости болят. И вот так дней пять ты переломаешься, а потом еще есть две недели, когда, в принципе, можно жить. И в этот момент я закрывала больничный и шла на работу.
Я очень благодарна своему работодателю, который сказал: «Не вопрос. Давай будем эти больничные открывать и закрывать. Ходи, сколько тебе надо».
И эта бодяга: открыла больничный – через неделю закрыла, на две недели вышла на работу» — длилась девять месяцев. Это было не для денег, это было для того, чтобы цепляться за жизнь.
Как не надо разговаривать с больным
Не хочу ругать никого из докторов, просто я много их прошла, так положено…
Было очень сложно, когда мне было нужно самой принимать решение. При раке молочной железы есть два метода операции – секторальная резекция (удаление опухоли и части тканей) и мастэктомия (удаление груди в целом). Я знаю, что есть больницы, где «тренд» — органосберегающий; в других предпочитают «резать, не дожидаясь перитонита», то есть, удалять все.
И я помню, как мой палатный врач, хотя, в целом, она возилась со мной очень много, все пыталась сделать так, чтобы я сама приняла решение, какую операцию хочу. А я принять его не могла: с одной стороны, были какие-то доводы о безопасности, с другой, — я была молодая барышня двадцати семи лет, и совсем уродовать свое тело не хотелось.
А врач все ходила ко мне… У нее, конечно, было собственное мнение, но она ждала, что я подпишу эту бумажку, и сама решу, какое правильное лечение мне назначить. Вот это было издевательство.
Я звонила каким-то друзьям-онкологам… Моих знаний совершенно не хватало. К счастью, в моем случае все решил хирург, который сказал: «Сначала попробуем так, а, если не повезет, будем удалять совсем». Но вот тут можно бы подумать, как поделикатней относиться к пациенту. Потому что, если бы хирург не взял на себя это решение, вообще не знаю, что бы я делала.
Еще часто со «свежими» больными врачи начинают разговаривать научным языком.
Помню, мне только поставили диагноз, еще, по-моему, даже не прооперировали. Я ни хрена не понимаю – и тут меня начинают давить этими процентами пятилетней выживаемости… Помню, что эмоционально я всегда все трактовала себе во вред.
— В твоем случае с таким-то лечением у нас пятилетняя выживаемость – семьдесят процентов.
— Как семьдесят? Это так мало! А тридцать – так много!
И это при том, что я все-таки, человек, который условно имеет отношение к медицине, у меня много друзей медиков.
Может быть, не стоило со мной говорить про эти проценты, а говорить нормальным человеческим языком.
С больничными тоже была забавная ситуация, хотя, возможно, сейчас все поменялось. По идее, их должен был выписывать мне мой онкодиспансер. Поначалу я заезжала к ним накануне химии, и они даже готовы были все выписывать. Потом стали говорить: «Заезжайте к нам после химии». А я не могу – потому что рвота. «Ну, может быть, ваша мама заедет?»
Но у меня есть чудесный участковый терапевт, который по вызову приходил на дом. Мы ему говорили: «Знаете, честно говоря, — химия». Но по правилам на такой диагноз я должна была вызывать онколога. Тогда терапевт просто брал бюллетень и писал: «Бронхит». И спасибо ему за это, потому что брать инвалидность без права работать для меня было вредно.
Не оставлять пациентов наедине друг с другом
Я не могу здесь никого винить, но сам процесс хождения по учреждениям, в который попадает онкологический больной, — ужасен. Сейчас, по-моему, количество клинических диспансеров расширили, а тогда их было совсем немного, и они были дико перегружены.
И внутри этих учреждений творится ад, потому что там – большое количество безумных людей, которым либо только что поставили диагноз, либо уже прооперировали.
И они все сидят в одном коридоре – нас много и мы в одной лодке. И абсолютно убивает поставленность на поток, когда у врача нет времени даже поговорить.
Еще там есть такие забавные опции, когда, например, подкалывают радиоактивный изотоп, чтобы посмотреть, нет ли поражения костей. Но, чтобы он в костях распространился, нужно ждать порядка трех часов. Для таких больных выделяют специальную комнату, поскольку считается, что ты можешь излучать некоторую радиацию.
В тех местах, где из подобных комнат действительно не выпускают, это три часа отстойно оборудованного помещения с какими-то драными креслами, где абсолютно нечем заняться. Ты сидишь в компании еще десяти-двенадцати таких же пациентов и ждешь. И эти люди могут быть оптимистичны, рассказывать, как в плане лечения у них все получается, но вообще это все просто убивает.
Поэтому возвращаться на обследования из года в год все труднее.
Облегчить послеоперационные обследования: «Здравствуйте, а вы давно у нас не были!»
Сразу после лечения, пока ты достаточно напуган, на обследования ходишь регулярно. Но это же всегда такой труд: надо пойти, отстоять очередь, записаться…
И ты начинаешь откладывать: на месяц, потом еще на месяц. Глядь – прошло полтора года, а показываться надо раз в год… А в начале – вообще раз в три месяца. И у нас нет никаких служб, которые звонят и говорят: «А где ты вообще шляешься? Тебе давно пора на обследование. Давай я тебя запишу».
В итоге, если нет никаких острых проявлений, человек просто начинает жить своей жизнью. И я в этом смысле – не исключение. Потому что, особенно если это делать прямым путем, то это – испытание. Ты идешь, отстаиваешь очередь, через две недели твой врач-онколог тебя принимает, дает три направление – на УЗИ, на сцинтиграфию (исследование костей) и на КТ. И ты тоже записываешься, и везде ждешь.
В итоге вместо декабря доходишь до диспансера к февралю, и еще месяц делаешь обследования. На следующий год раскачиваешься, дай Бог, к маю, и то – при активном участии всяких небезразличных к тебе людей.
Потому что страшно, а службы, которая сама бы отслеживала пациентов и вела запись, — нет.
На самом деле, по-моему, такая служба – это было бы очень здорово.
Для сравнения: у меня приятель долго жил в Англии. У него такая фамилия, что пол непонятен, тем более – они не сильно разбираются в наших фамилиях.
Так вот, он, конечно, мальчик, но шесть лет, пока он жил в Англии, ему каждый месяц приходила бумажка о том, что надо пройти скрининг на рак шейки матки.
Я, например, знаю, что в сопровождении беременности у нас такие вещи уже есть: Когда звонит сестра из женской консультации: «Что-то вы у нас три недели не появлялись…» Потому что за каждую неудачно окончившуюся беременность врачей серьезно наказывают.
А вот мой районный онкодиспансер – организация абсолютно бесполезная. Максимум, что они могли сделать – выписать дешевые отечественные таблетки, притом, что все кругом говорили мне: «Не пей наши – пей финские».
При этом про себя они не забывали и регулярно заполняли мою карту несуществующими обследованиями. Но мне не звонили ни разу.
«Я здорова», или когда выходишь из туннеля
Когда происходит выход из туннельного мышления? Наверное, спустя какое-то время после выхода из фазы тяжелого лечения. Лечение может еще какое-то время длиться, но оно уже не так привязано по времени и не такое мучительное.
Когда прекращается необходимость регулярного посещения врачей, наступает даже некоторая растерянность. Хорошо, если в этот момент есть возможность вернуться к работе или придумать себе какие-то регулярные занятия.
Потому что все равно ты еще некоторое время живешь «от одного страховочного крюка к другому».
Я вспоминаю, когда мне удалось расслабиться. Наверное, после лечения прошел год.
Потому что я была безумно активна, чересчур – не переставала работать, не прекращала своих занятий. Это была попытка перепрыгнуть через десять барьеров сразу: «Либо я остановлюсь и останусь на обочине навсегда, либо буду изо всех сил цепляться за жизнь».
Спустя уже достаточное количество лет я стала замечать у себя травматические последствия. Например, очень долго не могла вписаться в нормальный размеренный образ жизни – как начала бежать, так и не могла остановиться.
У меня было безумное количество работ, и, в конце концов, этим перегрузом я начала медленно себя убивать. Но казалось: я остановлюсь – и опять случиться страшное.
Страх остановиться и отпустить жизнь был такой же невменяемый. Из этой травматики мне потом пришлось выбираться еще несколько лет.
Одним из шагов к этому была попытка признать, что я здорова. Сказать: «Я здорова», — я смогла, только когда прошел этот треклятый пятилетний срок.
До этого произнести что-то на эту тему у меня не поворачивался язык. Притом, что у меня были оптимистичные хирурги, которые уже на вторую неделю после операции сказали: «Да ты ж уже выздоравливаешь!» Притом, что меня шарашили химиотерапией, потом лучевой терапией…
Сказать про себя, что я здорова, я смогла, только когда немного стала регулировать темп своей жизни. Когда смерть на пятки перестала наступать.
Для чего все это было?
Вообще после проживания ситуаций, когда ты на грани жизни и смерти, очень меняется мировоззрение. Обычно в подобных случаях возникает вопрос: «За что мне это?» А правильный вопрос, который немного помогает справляться с ситуацией, — «Для чего?» Но для чего, обычно становится видно не сразу, а немножко позже. И сейчас я понимаю, для чего.
Я стала мягче, менее категорична, я стала допускать, что другие люди живут, как умеют, и я не в праве это изменить.
То есть, я могу посмотреть: «Ой, как странно у вас все устроено», но не буду это хвалить или оценивать. И это новое отношение к жизни – удивительно и потрясающе, это своего рода просветление. Другое дело, готова ли я была заплатить за него такую цену. Но цены мы, видимо, не выбираем.
https://www.miloserdie.ru/article/kogda-samu-opuhol-mne-vyrezali-u-menya-hot-omerzenie-k-sebe-propalo/
|